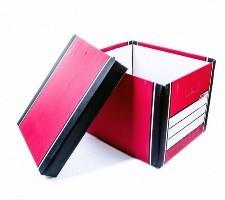Признаки конца. Что указывает на то, что Россия выходит из кризиса? Как выйти россии из кризиса
Как России выйти из кризиса?
 Россия, 25 декабря – Новости. Несколько утихшая рублевая лихорадка на российском валютном рынке подстегнула общественную и политическую дискуссию о путях выхода из уже анонсированной правительством Медведева рецессии.
Россия, 25 декабря – Новости. Несколько утихшая рублевая лихорадка на российском валютном рынке подстегнула общественную и политическую дискуссию о путях выхода из уже анонсированной правительством Медведева рецессии.
Декан экономического факультета МГУ, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан убежден, что «мотор» российской экономики можно оживить только за счет казенного «топлива» – госинвестиций. Они должны быть закачаны в российскую экономику. Эффект от вложений аналитик ожидает в среднесрочной перспективе – к 2017–2018 годам.
Представителю самого известного вуза страны трудно отказать в логике – в условиях инвестиционного «похолодания», установившегося в результате санкционной войны Запада против России, рассчитывать имеет смысли лишь на собственные силы.
Однако, в российской либеральной тусовке по-прежнему находятся парадоксально мыслящие люди, которые, похоже, не в состоянии отказаться от стереотипов, приведших страну к ее нынешнему малопривлекательному положению.
Что, собственно, признал лидер Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в выступлении на очередной из своих многочисленных пресс-конференций. «Увы, мы не использовали позитивный период до начала кризисных моментов и экономика подошла к новому кризису неподготовленной – она ослаблена», заметил глава Комитета. Впрочем, он объяснил это не устроенным им перекрытием финансового «кислорода», когда нефтедоллары вместо того, чтобы быть инвестированы в высокотехнологические сектора промышленности «стерилизовывались» в заокеанских «кубышках». Как и полагается убежденному либералу, Кудрину показалось, что всему виной государства, присутствие которого оказывается слишком велико в целом ряде отраслей промышленности.
Тем не менее, сегодня в условиях ограничения на мировых рынках Россия вынуждена предпринимать шаги, которые опираются на государственный и административный секторы. Таким образом, мы находимся на пути возможности создания мобилизационной модели экономики»- заявил Кудрин. Однако, бывший глава Минфина не считает это позитивным процессом. Судя по всему, его помыслы, как и в «тучные годы» направлены поддержание инвестиционного климата и заботу о том, как РФ сегодня выглядит в глазах международных спекулянтов. Особую озабоченность г-на Кудрин проявил в отношении предполагаемых ограничений на обмен валюты.
Пугают некогда «лучшего министра финансов» по версии жюри из стран, сегодня вводящих антироссийские санкции, возможность валютных ограничений и уменьшения использования доллара в обращении. Судя по выступлению, Кудрин по-прежнему с оптимизмом смотрит на возможность сохранения места России в международной кооперации.
Учитывая прежний сырьевой статус РФ в глобальном «кооперативе», что во многом, есть заслуга наших либералов, этого пророчества хотелось бы избежать.
Под занавес выступления Алексей Кудрин нарисовал вполне общепринятую алармистскую картину неутешительного состояния дел и перспектив российской экономики. Так, и не признавшись в хотя бы в соавторстве. По его словам Россия переходит в полноценный и настоящий экономический кризис, первые последствия которого мы прочувствуем в будущем году.
«Если нефть будет стоить около 60 долларов за баррель, снижение роста может превысить 4-5%», констатирует Кудрин. А, на закуску, главное – по данным главы Комитета в следующем году произойдет снижение доходов населения (от 2 до 5%). Причем впервые с 2000 годов. А «инфляция в следующем году будет 12-15%. Мы переходим к двузначной инфляции. Но, в принципе, она может снижаться. Уровень девальвации в России снижает ее долю в мировом ВВП по отношению к доллару. Россия получит снижение рейтинга до уровня «мусорного».
Россию будет спасена, если такие господа как Кудрин («публичные тени» «лихих девяностых) и другие сектанты гайдаровского толка не окажутся у руля российской экономики, считает инвестиционный консультант, старший аналитик ИК «Риком-Траст» Владислав Жуковский.
– Потому что сегодня советы о якобы вредности мобилизационной экономики сегодня раздают те люди, которые в 1990е гг. опустили страну в нищету и разруху. Их последователи и преемники и сегодня определяют экономический курс страны. Особенное умиление вызывает фраза, что они не до конца дореформировали Россию. То есть не успели ее полностью либерализовать. Причем, в худшем смысле этого слова – в виде снятия ответственности государства за все базовые и социальные функции. Под сурдинку экономических проблем эти люди опять рвутся к власти, надеясь на реванш.
«СП»: – Чем это может быть чревато?
– Проведением дальнейшего компрадорского и разрушительного курса на экономическую дезинтеграцию, деиндустриализацию, долларизацию, окончательным включением российской экономики в мировую на правах сырьевой колонии. Либералы, который с упорством шли к поставленной цели, теперь объясняют неудачу тем, что государства в экономике было, якобы, слишком много. Причем, они говорят только часть правды – государства, правда, было слишком много в экономике, если под этим иметь в виду никем не ограничиваемый произвол монополий, госкорпораций и госбанков.
Однако, лекарство предлагается очень странное – вместо лечения названной болезни, просто раздать последние лакомые куски госсобственности в руки приближенных к государственным и либеральным кругам олигархам. Причем, желательно за счет средств налогоплательщиков. А лучше внебюджетных фондов (Резервного и ФНБ). А на что не хватит денег отечественным олигархам, отдать в руки глобального бизнеса.
«СП»: – Так в чем же спасение России?
– В том, чтобы артель либеральных старателей Дубининых, Кузьминовых, Чубайсов, Мау и прочих не пришли к власти. Одновременно нужно очистить правительство от всей этой либеральной тусовки. Нужно прекращать псевдорыночную демагогию, которая развилась в кабинете министров. Что воплощает полную халатность, безответственность и непрофессионализм. Минфин, ЦБ и Минэкономики умудрились загнать нашу страну загнать в состояние глубочайшего кризиса и рецессии. Это состояние можно охарактеризовать как «инвестиционную кому», промышленную деградацию, ухода бизнеса в тень, кримининализацию экономических отношений.
В результате в ситуации, когда мировая экономика возрастает на 3-4% в год (ВВП США увеличивается на 3%, Китай и вовсе под 7%), мы превратись в огромный рецессионный угол на планете. Если, конечно, не принимать во внимание экономически «убитые» страны Африки и Латинской Америки.
«СП»: – Озвучивание «мобилизационных страшилок» это элемент манипуляции сознанием россиян?
– Это попытка дезориентировать общество. Развешиваются наиболее «ходовые» ярлыки и клише про мобилизацию. Ставится чуть ли не знак равенства между политикой мобилизации ресурсов в экономике и репрессиями. Чуть ли что это не синоним «сталинизма», террора 1937 года.
В свою очередь, любая созидательная деятельность государства, направленная на стимулирование конкуренции, повышение протекционизма и защиты отечественных товаропроизводителей, ограничение произвола монополий, международных спекулянтов и глобального бизнеса автоматически подается как экономический тоталитаризм.
С другой стороны, важен баланс – ни абсолютная мобилизация, ни абсолютная либерализация не могут считаться панацеей. Обе крайности могут привести страну в состояние глубочайшего кризиса, вплоть до распада.
Чтобы избежать этого нам предстоит совершить беспрецедентную либерализацию с точки зрения поощрения частной творческой инициативы, выявления предпринимательской жилки у людей и их талантов. Чтобы работать не на чужого дядю, а иметь возможность реализовать свои способности на поприще индивидуальной предпринимательской инициативы.
Также необходимо либерализация с точки зрения создания равных условий для всех и каждого внутри страны. Плюс следует провести внятную и осмысленную антимонопольную политику. Бороться с тарифным произволом разного рода энергетиков, жилищно-коммунальной «мафии». В тех сектора экономики, которые не выступают в качестве системообразующими и стратегическими значимыми приватизация и повышение конкуренции не просто возможно, а необходимо. Грубо говоря, минерально-сырьевая база должна оставаться полностью под контролем государства, также естественные монополии (вроде РЖД).
Еще один бич, с помощью которого можно задушить любые ростки экономического роста - это ссудный процент. Отсюда государство должно сохранять свои позиции и в финансовом секторе. А в текстильной и легкой промышленности, туристическом, гостиничном бизнесе полная свобода, налоговая стабильность и прозрачность. Это китайская модель.
Весь имеющийся человеческий и производственный потенциал следует бросить на достижение целей новой индустриализации в виде вертикальной интеграции производительного труда, капитала и собственности. Глобальная экономика работает по очень простому принципу – выигрывает тот субъект, который контролирует все цепочки добавленной стоимости. С целью минимизации издержек и прибылей на промежуточных звеньях межотраслевого потребления. При максимизации прибыли на стадии выпуска готового товара. Воспользовавшись этим рецептом, с нашим потенциалом, мы могли бы минимум в два раза превышать по объему добавленной стоимости, индикаторам развития человеческого капитала, ту же самую Америку, Германию и Японию.
«СП»: – А как быть с элитой. Наша «унтер-офицерская вдова» едва ли согласится себя высечь, а власти неукоснительно соблюдают принцип «элитного консенсуса»?
– Либеральная компания, поставив страну на грань пропасти, пытаются все списать на «проклятых государственников», которые просто так, повышения самооценки ради, решили поругаться с Западом. Кстати говоря, нынешние сторонники «сильной руки» - на самом такие же либералы. Они хотели бы не просто зарабатывать деньги, но и иметь статус на Западе. Так что они будут и дальше проводить политику секвестра бюджета, урезания социальных гарантий, заниматься «гайдаровщиной», приватизируя объекты здравоохранения и образования. Если так будет продолжаться и дальше, годика через три мы получим «Великий Октябрь» и с большим размахом отметим это событие в обновленной стране.
Кудрин теперь будет теперь везде всплывать и светиться в публичном пространстве. Некие силы уже сегодня преподносят его в качестве потенциального премьера (чуть ли не президента).
Либералы пытаются использовать кризис как повод для того, чтобы окончательно демонтировать «неэффективный» государственный сектор и «допилить» неразворованное за последние два десятилетия, убежден директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.
– Хотя это противоречит опыту столь любимой или Западной Европы и, прежде всего, США. Где кризис 2008 года привел к радикальному усилению государственного урегулирования и увеличению социальных программ. Хотя, после некоторых колебаний, значительная часть европейских стран пошла по противоположному пути. Я имею в виду резкое сокращение социальных расходов и новую приватизацию.
Это привело к тому что Западная Европа вот уже почти шесть лет не может выйти из кризиса. И с точки зрения западного обывателя это ужасающий факт. Но с точки зрения правящих элит, я думаю, это вполне допустимый вариант. Потому что они решили проблему перераспределения ресурсов в пользу правящего класса, «подрезав» государство всеобщего благосостояния. Тем самым, они увеличили социальное неравенство, но кроме отдельных социальных всплесков в виде ритуальных забастовок, вроде, ничего страшного пока не случилось. Другое дело, чем это обернется через пять-шесть лет. Но в Европе кабинеты быстро меняются.
«СП»: – Это заманчивая перспектива и для наших власть предержащих – заработать на кризисе, сохранив правящий статус. Насколько реален такой маневр?
– Либеральные силы в Западной Европе гораздо лучше организованы и поэтому смогли навязать обществу такой «антикризисный» сценарий. Что касается России, то переход к мобилизационному типу развития предполагает изменение структуры и природы российской власти. Сама по себе она не будет меняться.
«СП»: – Напрашивается «чистка элит». Начать можно с Сердюкова, это будет отличный сигнал власти как обществу, так и всем любителям «пирога с казенной начинкой».
– На самом деле мобилизационные меры - это стандартный алгоритм поведения властей в кризисной ситуации. Приведу пример – необходимость внедрения продразверстки и ряда элементов военного коммунизма обсуждались и даже частично приняты царскими администраторами еще в 1916 году.
«СП»: – Сейчас много говорят о «продразверстке» для экспортеров, что заставить их сдавать свою валютную выручуку…
– Что это произошло на практике, потребуются очень серьезные политические перемены, вплоть до смены правящей элиты.
«СП»: – Либералы утверждают, что российские антисанкции контрпродуктивны, поскольку они больше вредят самой отечественной экономике.
– Не согласен – контрсанкции (давайте назовем их так) представляют большой шанс для российской промышленности. Прежде всего, для легкой и пищевой. Проблема в том, что эти контрсанкции не работают. И понятно почему – вы приняли в принципе верное решение, а в остальном все оставляете как есть. То есть контрсанкции мы принимаем, но никак не корректируем экономическую политику. В результате власти обрекают свои решения на неэффективность.
«СП»: – О чем конкретно идет речь, какого обеспечения им не хватает?
– Нужно в той или иной форме вводить валютный контроль. Но самое главное сейчас это продвижение целой серии мер по расширению внутреннего рынка и по стимулированию промышленности. Импортозамещение должно подкрепляться мощными решениями в области экономической политики.
«СП»: – С учетом недавнего повышения ключевой ставки ЦБ до 17% решение этой задачи становится утопией.
– Все правильно – это совершенно несовместимые вещи. Путину нужно очень внимательно следить за действиями ЦБ и правительства, и каждый раз поручать ровно противоположное тому, что они предлагают. В условиях, когда экономика входит в рецессию, нужно стремиться к тому, чтобы снижать процентные ставки. Вместо этого их последовательно повышают. Другое дело, что сейчас уже поздно пытаться что-либо изменить этим финансовым инструментом. Нужно в официальном порядке выходить из ВТО, национализировать … госкомпании.
«СП»: – Это звучит, как парадокс.
– На самом деле они лишь условно выступают в качестве госсобственности. Это скорее закрытые корпорации, в которых «похоронены» государственные средства. Их следует национализировать и превратить в госведомства (прежде всего, РЖД). Из бывшего Стабфонда деньги должны быть изъяты в максимальном количестве. И направлены на инвестиционные программы. Прежде всего, на развитие новых производств и внедрение новых технологий, которые в России все-таки есть.
Опять же не нужны никакие «Сколково»- его нужно немедленно закрыть, распахать это место и посыпать солью. Вместо этого следует провести полную инвентаризацию наших технологических возможностей и потенциала. Хотя последний уже далеко не велик (максимум 10% от того, что было в конце советского времени), но еще имеется.
Наконец, нужно перенимать опыт Рузвельта, которые организовал массовое дорожное строительство. Но нам не нужны пафосные проекты типа скоростного экспресса «Москва-Казань», а построить по всей стране 50 тысяч районных дорог. Между районными областными центрами. Уже давно муссируется идея построить кольцевую областную автодорогу, чтобы разгрузить московский транспортный узел.
«СП»: – Если уж возвращаться к теме импортозамещения, как наладить путь отечественного производителя до конечного потребителя?
– С импортными торговыми сетями ничего делать не нужно. Никто ведь не мешает создавать на муниципальном, областном и федеральном уровне собственные сети. Для этого нужно отменить законодательное ограничение по созданию унитарных государственных компаний. Фактически сегодня государство лишено возможно инициировать какую-либо хозяйственную деятельность. Иначе как через форму госзаказа или госкорпораций. Унитарные же компании фактически находятся под запретом.
Источник: http://svpressa.ru/economy/article/108215/
Читайте также:
www.news-usa.ru
Как выйти из экономического кризиса
Россию трясло от экономических кризисов неоднократно. Если говорить о двадцатом веке, то первый важный негативный опыт — Первая Мировая война и революция, почти обнулившие тот финансовых успех и потенциал, которых Империя достигла к 1913 году. Эта кризисная ситуация затянулась на семьдесят лет.
Далее наступил важный виток — нефтяной кризис 1970-х годов, который привел к развалу СССР, сказать, что это особое потрясение для страны — ничего не сказать. Кризис 1998 года занимает особое место в истории, так как это наиболее позитивный эпизод из негативных. Он затронул (обеднели и прочувствовали) меньшее количество людей, чем в других. Нужно добавить, что и вышли из него быстро, во многом благодаря совершенно другому настрою — позитивному, с верой в лучшее, основанному опять же на меньшем количестве жертв.
А вот на кризисе 2007-2009 годов стоит остановится отдельно и поподробнее. Он был уже куда более глобальным и серьезным. Сначала экономическая ситуация в стране не упала заметно, так как цены не нефть не снижались и в стране были большие резервы. Но мы до сих пор ощущаем даже общемировые последствия — революции на Украине, арабские весны и т.д. Тут затронуты не только вопросы экономики, но важные общественные, вплоть до религиозных.
Но именно последствия в нашей стране мы схватили в 10-е годы 21 столетия — у людей объективно стало меньше денег. По данным Росстата, число живущих за чертой бедности россиян достигло максимума с 2006 года. Число бедных за 2015 год выросло на 3,1 миллиона человек — до 19,2 миллиона человек. В 2013 году их было 15,5 миллиона, в 2014 году — 16,1 миллиона. Из этого следует, что общий уровень бедности по стране без учета Крыма и Севастополя поднялся до 13,4%. Эти цифры просто огромны: 3,1 миллиона человек — это, к примеру, население двух городов, как Новосибирск. И что важно — в этот кризис совсем другое общее настроение — многие на себе ощущают экономическое падение и изменения в связи с этим в образе жизни, возможности что-то покупать, куда-то ездить и т.д. И не только все пострадали, так еще и понимают, что такого роста, как был в нулевые, просто уже не будет, нет никаких на это ресурсов и возможностей. Тут как раз важно понять, как выйти на позитив, как не затянуть процесс падения на долгое время?
Жизнь — это движение по спирали: то экономика растет, но падает, то снова растет и т.д. В кризисе как таковом нет ничего особенного, это норма, это просто новый виток и часть жизненного процесса (такой же мы можем наблюдать не только в экономике, но даже в нашем психологическом состоянии и развитии), не нужно этого бояться. Этот кризис тоже точно закончится, вопрос, куда мы выйдем: в рост или стагнацию или еще больший кризис. Еще важно, как долго он продлится. Что мы можем сделать для того, чтобы выход был быстрым и позитивным? Давайте в конце концов не допускать такого, что падение продлиться долго и безрадостно, еще так лет на семьдесят-восемьдесят.
Что может сделать для этого каждый лично? «Один в поле не воин», — скажут многие. Другие, как обычно добавят, что все равно мы никак не влияем, ничего не поможет, нас слишком мало и прочие жертвенные жалобы. Это не так, всем управляет всегда самая активная небольшая прослойка общества — задача ею стать, а для этого не нужно ничего сверхъестественного.
Я решением проблемы вижу следующее — создание как можно большего количества независимых источников дохода. Именно таким путем формируется независимое мышление, так как появляется высокий уровень ответственности за свое личное, желание зарабатывать, а не терять.
Тем самым, если у вас есть желание сделать что-то свое, запустить свой проект или открыть бизнес, то это не только вклад в личный капитал и капитал семьи — это еще и то, что двигает страну в целом вперед: формирует новый уровень сознания, развивает людей в политическом и гражданском плане. Развитие предпринимательства — это и есть та превентивная мера, которая не даст стране пойти по тоталитарному пути развития, так как в этом будет слишком много незаинтересованных людей, причем не на словах, а на деле, так как они будут хорошо видеть, что они лично могут потерять из того, что заработано таким тяжелым трудом.
Развитие предпринимательства также будет стимулировать экономический рост, уменьшать длину кризисных состояний и оздоравливать процесс смены этапов роста и падения, делая общую спираль жизненных циклов намного привлекательнее.
Важно помнить про то, что в начале двадцатого века авторитетный журнал Economist опубликовал следующий прогноз: в двадцатом веке самими передовыми странами в области экономического благосостояния и развития станут три страны: США, Аргентина и Россия. Как вы понимаете, их прогноз оправдался только по отношению к одной стране. Вопрос, что она сделала такого, что другие не сделали и наоборот. США — это единственная страна, которая сделала ставку на развитие демократических институтов и разделение властей. Да, экономика США на самом деле растет медленно, зато витки роста длятся намного дольше. Страны, в которых государство активно вмешивается в экономику или по-другому те, в которых мобилизационная экономика, не могут развиваться долго, эти благостные периоды длятся никак не более 50 лет и за ними следует неизбежная стагнация, и тут отличным примером служит Аргентина и СССР. История показала, что американский рост экономики по всего лишь 3% в год всегда лучше, чем рост авральный, который не заканчивается ничем хорошим. Институционнальная демократия тем и хороша, что позволяет монотонно и долго расти, так как ее не шарахает из стороны в сторону, к чему приводит как раз отсутствие демократических институтов. В стабильно развивающихся странах власть постепенно передается и все плавненько идет вперед, так как нет постоянной борьбы, кто все-таки главный и захватит все в стране и будет единолично решать все. И вот снова возвращаяcь к выходу из кризиса важно сказать, что построение такой институациональной экономики невозможно без построения независимых источников дохода, коими являются предприниматели.
Напоследок снова повторюсь, кризис закончится точно, а вот как и когда от нас во многом зависит, и как всегда, труд — лучшее лекарство.
delovoymir.biz
Признаки конца. Что указывает на то, что Россия выходит из кризиса? | Экономика | Деньги
Экономисты увидели признаки выхода России из самой продолжительной за последние двадцать лет рецессии. Как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики, ВВП РФ демонстрирует положительную динамику — во втором квартале ВВП снизился на 0,8% в годовом выражении. Этот показатель является минимальным с начала 2015 года.
По последним данным Росстата, спад российской экономики во втором квартале замедлился до 0,6%. О стабилизации ситуации недавно также заявили Центробанк и Минэкономразвития.
Впереди — медленный рост
По мнению экспертов ЦБР, рецессия в российской экономике осталась в прошлом. «Индексная оценка российского ВВП говорит о том, что рецессия осталась позади, а впереди — медленный рост экономики», — говорится в бюллетене Банка России «О чём говорят тренды».
Модульную оценку ВВП на текущий квартал специалисты регулятора повысили до 0,4%, оценка на четвёртый квартал составляет 0,5%.
Как сообщил представитель Минэкономразвития, в течение второго квартала спад ВВП РФ остановился, составив 0,2%. «Во втором квартале сезонно очищенный спад ВВП составил 0,2% к предыдущему кварталу. Но в течение квартала спад остановился: в апреле он составил 0,2%, а в мае и июне изменение ВВП находилось в пределах 0–0,15», — цитирует представителя МЭР РИА «Новости».
Замедление темпов падения российской экономики в течение последних пяти кварталов свидетельствует о том, что «дно пройдено». Среди других маркеров, указывающих на признаки оживления национальной экономики, Bloomberg называет рост спроса на электроэнергию и железнодорожные перевозки, оживление бизнеса.
«Если сделать поправку на то, что год високосный, то понятно, что динамика в плюс 1% потребления электричества может быть наполовину обусловлена дополнительным рабочим днём. Добавим к этому более низкую среднегодовую температуру в первом квартале. Следующий аргумент — это рост грузовых перевозок, но здесь сложно получить точные данные, и плюс-минус 0,5% полугодового объёма также можно объяснить сезонностью», — поясняет Кирилл Яковенко из АЛОР БРОКЕР.
Впрочем, есть и другие, более очевидные признаки стабилизации российской экономики. Например, снижение ценового давления. В июле индекс потребительских цен составил 7,2% по сравнению с 15,6% в том же месяце прошлого года. Более того, последние две недели Росстат фиксирует дефляцию. Цены в России снизились впервые за пять лет.
«Если посмотреть на динамику курса рубля, который, хотя и показал сильные колебания в начале года, по итогам августа с начала года укрепился на 12%. Это тоже один из признаков восстановления, за которым должны пойти показатели из реального сектора экономики», — подчёркивает Яковенко.
Помимо этого, с апреля в РФ наблюдается рост объёмов промышленного производства. В июне показатель вырос на 1,7%.
Замедляются темпы падения внешнеторгового оборота с -32,8% в январе 2016 года до -20,7% в мае. Позитивную динамику также демонстрирует и ситуация на рынке труда, где уровень безработицы снизился до 5,4%. Ниже он был лишь в сентябре 2015 (5,2%).
Факторы риска
Несмотря на благополучную ситуацию на рынке труда, вопрос с реальными располагаемыми доходами населения оставлять желать лучшего. В годовом выражении показатель снижается на 4,8%. Этот фактор может тормозить восстановление экономики, поскольку расходы домохозяйств вносят немалый вклад в ВВП. Как правило, в структуре экономике их доля превышает 50%.
«Помимо низкой потребительской активности, в качестве факторов риска для экономического роста также можно назвать жёсткую политику Банка России. Регулятор удерживает ставку на уровне 10,5%, что не лучшим образом сказывается на реальном секторе. Негативным фактором является и недостаточно высокий уровень инвестиций, что сдерживает развитие промышленного потенциала. Но в целом, можно предполагать, что к концу года темпы падения экономики РФ замедлятся до -0,5% против -3,7% в 2015», — говорит аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
www.aif.ru
Как России выйти из кризиса — реальный путь

В последние десятилетия происходит целенаправленный и продуманный процесс изменения структуры мировой экономики: финансовый сектор стал первопричиной и основой всего, реальный сектор, привязанный к конечному спросу и доступу к кредиту перестал быть необходимым в том объеме которого он достиг.
На ближайшее будущее можно прогнозировать последовательное сокращение численности платежеспособного населения и обеспечивающих его секторов экономики. Поскольку эти процессы взаимно ускоряют друг друга, то разглагольствовать о структуре экономики, уже отжившей свое, и не видеть последовательности ее разрушения — это лить воду на мельницу разрушителей.
Старый мир рушится не потому, что кто-то его невзлюбил и подло рушит в благодарность за то, что мировая масонерия наградила его пятном на лбу. Просто ему на смену идёт новый. И от понимания, каков он, зависит твоя позиция в жизни: впишешься ли ты в восходящий поток, или будешь в нищете мучительно умирать вместе со старым, — Е. Гильбо.
Пути выхода России из кризиса
- Нужно отменить свободную конвертацию рубля к другим валютам, особенно к тем, которые имеют свойство быть напечатанными в любых количествах под исключительно собственные, корыстные интересы. Делается это путем установления обоснованных планов и лимитов на конвертацию рубля. То есть все спекулятивные сделки надо жестко фильтровать.
- Финансовую систему нужно реально менять с акцентом на сокращение долгового бремени у хозяйствующих субъектов. Это можно сделать путем установления лимитов на виды фондирования бизнеса. То есть фондироваться можно и кредитами, но не более чем (например) на 30%, остальное должно приходиться на акционерный или долевой капитал. Фондирование должно быть сбалансированным по видам.
- Нужно разработать и усиленно внедрять отечественные стандарты присвоения рейтингов, на основании которых будет видна платежеспособность субъекта и предельные объемы его финансирования. Рейтинги нужно также присваивать и физлицам.
- Давать существенные налоговые льготы тем компаниям, которые способствуют привозу и внедрению передовых технологий в страну, причем не зависимо от резидентства.
- Нужно менять систему образования в стране и сделать основной упор на выявление у подрастающего поколения врожденных качеств, их развитие в профессиональном направлении и целенаправленную адаптацию людей с различными навыками в систему производства и развития страны. Раньше была такая дисциплина как профориентация, было бы не плохо не только вспомнить что это такое, но и вывести ее на новый уровень. На Западе давно идёт охота за мозгами — ещё со школы. Нужно успевать перехватывать гениев до того, как они покинут страну.
Вообще Россия всегда славилась любовью к абстрактным знаниям, а Запад — к знаниям прикладным. Поэтому 8 лет кризиса США прошли с наименьшими потерями.

Самой важной является проблема дефляции. И для общества (государства), и для предприятий. Если Запад быстрее России решит эту проблему, то проблема изменения структуры экономики для России будет не важна — структуру экономики России будет определять уже Америка.
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:
Другие новости:
 В последнее время руководство России начало всё больше внимания уделять интернет-безопасности в своём сегменте сети. Причём ...
В последнее время руководство России начало всё больше внимания уделять интернет-безопасности в своём сегменте сети. Причём ...  Очередная кардинальная реорганизация намечается в силовых ведомствах Российской Федерации. Изменения коснуться в первую очередь Внутренние войска, ...
Очередная кардинальная реорганизация намечается в силовых ведомствах Российской Федерации. Изменения коснуться в первую очередь Внутренние войска, ...  Премьер-министр Японии, публично упрек президента США, Барака Обаму на пресс-конференции в среду сказав, что он чувствует «глубокую ...
Премьер-министр Японии, публично упрек президента США, Барака Обаму на пресс-конференции в среду сказав, что он чувствует «глубокую ...  Как заявили чиновники в пятницу, Соединенные Штаты и Филиппины договорились о локациях, где американские силы развернут ...
Как заявили чиновники в пятницу, Соединенные Штаты и Филиппины договорились о локациях, где американские силы развернут ... vse.news
Сможет ли Россия выйти из кризиса?
 Россия, 28 октября – Новости. Эксперты считают, что России для выхода из кризиса нужно переходить к модели мобилизационной экономики. Что это такое? Каких жертв и издержек потребует? Готова ли вообще страна к тому, чтобы направить экономику на новые рельсы?
Россия, 28 октября – Новости. Эксперты считают, что России для выхода из кризиса нужно переходить к модели мобилизационной экономики. Что это такое? Каких жертв и издержек потребует? Готова ли вообще страна к тому, чтобы направить экономику на новые рельсы?
Бюджет на 2015-17 годы сверстан, исходя из предполагаемой средней цены на нефть в 100 долларов за баррель. Сейчас нефть стоит 85 долларов, и никто не знает, насколько она подешевеет в ближайшее время. В следующем году дефицит казны планируется покрыть из Резервного фонда, но он не бездонный, и уже в 2016 году придется существенно пересматривать расходную часть бюджета.
Давно с высоких трибун в нашем государстве говорят о необходимости «слезть с нефтяной иглы» и модернизировать промышленность. Реальными успехами в этом направлении мы пока похвастаться не можем. Обострение отношений с Западом лишает нас и доступа к высоким технологиям. Теперь придется самостоятельно делать научные открытия и нарабатывать опыт по внедрению инноваций. Одновременно Запад показал уязвимость других наших сфер, от сельского хозяйства до платежных систем.
В истории было много примеров, когда та или иная страна, оказавшись в сложной ситуации, делала резкий скачок. Сингапур, Малайзия, Китай, послевоенная Япония… Можно вспомнить и об отечественной истории: годы НЭПа, индустриализация, послевоенное восстановление. Но во всех случаях требовалась колоссальная концентрация усилий ради достижения общей цели. А это, в свою очередь, заставляло население отказаться от многих привычных вещей. И много-много работать.
Впрочем, история знает и другие примеры выхода из затруднительного положения. Скажем, Исландии по выходу из кризиса 2008-09 годов. В абсолютно рыночной экономке правительство страны пошло на беспрецедентные меры и заморозило счета юрлиц, а государственную помощь направило не банковскому сектору, а гражданам. То есть акцент сделали на повышение внутреннего спроса. Одновременно были запрещены инвестиции за пределами страны. Благодаря принятым мерам экономика восстановилась.
В России, как в США и во многих странах Европы, поступили иначе: остановили рост зарплат, сократили социальные расходы и направили средства коммерческим банкам. Результаты особо никого не обрадовали. Но может, сейчас наши власти примут более разумное решение?
Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов полагает, что России не удастся избежать жестких методов:
– Мобилизационная экономика помогает любой стране, которая ведет войну или готовится к ней, выиграть или хотя бы не проиграть. Россия в этом плане особая страна, против нее на протяжении XX века велись «горячие» или «холодные» войны. Россия как государство, как цивилизация может существовать только в условиях мобилизационной экономики. Это, как говорится, «медицинский факт». Все попытки перевести экономику на рельсы рыночных отношений есть просто попытки уничтожить наше государство.
«СП»: – Чем характеризуется мобилизационная экономика?
– Прежде всего, высокой нормой накопления, то есть объемом инвестиций в наращивание основного капитала (реального производства). Страны, которые в разное время демонстрировали экономическое чудо, как Германия или Япония после войны, увеличивали норму накопления. Она достигала у них до 30-35% и иногда 40% от ВВП. В СССР после Великой Отечественной войны норма накопления была на уровне 25%, а во время индустриализации, по оценкам экспертов, – 50-60%.
Помимо статистических показателей важно иметь в виду и качественные характеристики. Мобилизационная экономика подразумевает максимальную защиту от внешних факторов. Первая группа таких факторов – изменения на внешнем рынке, как-то падение цен на нефть, мировые финансовые кризисы. Вторая группа – целенаправленные усилия по подрыву экономики, к примеру, торговая война. Чтобы защитить экономику от внешних факторов, стихийных и целенаправленных, необходимо иметь монополию на внешнюю торговлю и операции с валютой.
Должно быть централизованное управление, максимальное вмешательство государства в экономику, увеличение доли государственных предприятий, особенно в сфере производства средств производства.
Естественно, должно быть планирование. Причем не краткосрочное, как у нас сейчас. По сути, у нас вообще не планирование, а прогнозирование. А необходимо среднесрочное и долгосрочное планирование.
При планировании необходимо использовать преимущественно натуральные показатели, а не стоимостные. Реформа Косыгина-Либермана показала, что как только основные показатели предприятий и отраслей стали стоимостными, так экономика начала развиваться не в ту сторону.
«СП»: – Какие изменения общественной жизни предполагает мобилизационная экономика?
– Такая экономика предполагает, прежде всего, мобилизацию людей. Странно задавать вопрос, лишатся ли люди теплых туалетов и возможности посещать рестораны, если они отправятся на войну. А в этом плане экономический фронт мало чем отличается от боевого фронта.
Люди думают, что можно выигрывать войны, не снижая потребление, но это не так. Но как мобилизовать людей, уже больше не экономическая задача, а идеологическая, духовная. Да и в будущем возможно повышение уровня жизни.
Могу привести пример первой сталинской пятилетки. Тогда люди не до конца понимали, зачем вообще нужна индустриализация. В первую пятилетку имел место быть элемент принуждения, тем более что снизился уровень благосостояния. Уменьшились доходы и потребление самых базовых товаров, перешли даже на карточную систему. Но во второй пятилетке все показатели пошли вверх. Главное, заработали не только материальные, но и моральные стимулы труда.
Подчеркну, перейти на мобилизационную экономику – задача не простая. Решить ее сразу нельзя, не подготовив человека, не объяснив ему, зачем нужна такая экономика. Надо растолковать людям, что предстоит выбор между теплым туалетом, удобной мебелью и самим существованием - тебя, твоей семьи и твоей страны.
«СП»: – Насколько такой выбор остро стоит перед российским обществом сегодня?
– Для меня совершенно очевидно, что такая дилемма существует. Я родился сразу после войны, жил в советское время, много изучал историю нашей страны. Мой опыт и мои знания говорят, что выбор народу предстоит сделать очень жесткий.
Другое дело, руководство страны не формулирует такую альтернативу. Более того, пытается совместить несовместимое. Меня это очень тревожит.
Я понимаю, что страна наша подконтрольна Западу. Но и в советское время, накануне индустриализации, зависимость России от иностранных держав была большая. Но мы сумели преодолеть эту зависимость. Я думаю, что мобилизационное сознание должно приходить к людям.
«СП»: – Применим ли для нас исландский опыт выхода из кризиса, в частности, когда деньги направляются людям, а не банкам? Тогда и сверхусилий не потребуется.
– «Утка» исландского опыта запущена в массовое сознание довольно давно. Это довольно хитрый прием. По нему я написал несколько статей. При желании «повалить» Исландию можно было за 24 часа. Но страна оказалась первой в длинной цепи возможных дефолтов европейских стран. Да, Исландия избежала дефолта благодаря нестандартным решениям, но эти нестандартные решения были инициированы не народом Исландии, а мировым финансовым интернационалом, который спасал Европу.
Некоторым нашим патриотам нравится исландский опыт. Но, на мой взгляд, он невозможен для России.
Доктор экономических наук, профессор Александр Бузгалин главную проблему спасения нашей экономики видит в том, что государство не хочет затронуть интересы самых зажиточных слоев:
– Переход к мобилизационной экономике правительством и учеными понимается по-разному. С точки зрения правительства, переход к такой экономике означает, что мы будем жить в тех же рыночных условиях, будет нарастать степень социальной дифференциации, олигархи будут обогащаться, но при этом резко сократим расходы на социальные цели, образование, здравоохранение, долгосрочные программы развития.
Есть понятия о мобилизационной экономике в «советско-ностальгическом» стиле. Как системы, построенной по типу директивного планирования, жестких приказов сверху, подкрепленных авторитарной властью.
Наконец, есть третий вариант, когда под мобилизационной экономикой понимается концентрация ресурсов на ключевых направлениях, поддержки их институционально и идеологически.
Минфин говорит о первом варианте, когда ничего не меняется, но значительно сокращается бюджет за счет уменьшения поддержки самых бедных слоев, расходов на образование и охрану природы. Этот принцип был заложен при формировании нынешнего бюджета, то же самое будет и в перспективе. Сокращение расходов на 10% приведет к большим потерям в социальной сфере, в развитии высокотехнологичных отраслей.
Я считаю, что альтернативы этому пути есть. Доходы бюджета можно увеличивать не только за счет роста цен на нефть и газ, но и за счет развития современного производства, введения прогрессивной шкалы подоходного налога, поддержки инвестиционных проектов.
При этом надо выдавливать паразитический бизнес, тратящий прибыль на приобретение дорогих импортных автомобилей (малый бизнес), огромных яхт (крупный бизнес), футбольных клубов (уровень олигархов). Часто такие траты делаются из-за неуверенности в завтрашнем дне. С этим надо бороться за счет стабильных правил игры, установленных минимум на три-пять лет.
Увы, этого никто делать не хочет. Так что будет повторение модели 1990-х годов, то есть наступление на права наименее защищенных граждан.
Я тоже радуюсь присоединению Крыма. Но жить только за счет этой радости, не решая системных проблем в экономике, нельзя. Крым присоединили, но негативная социальная политика продолжается.
«СП»: – Можно перейти к мобилизационной экономике так, чтобы не пришлось работать без выходных?
– У власть предержащих сейчас есть большой соблазн использовать ситуацию, чтобы сказать «Вы же не хотите развития событий как на Украине. Поэтому работайте больше, а олигархи будут богатеть еще ширше».
Я считаю, что мобилизация может быть и не рыночной, и не сталинской. Можно использовать государственные инвестиции, снижать социальную дифференциацию. Тогда будет некоторый спад уровня жизни, но потом серьезный рост. К сожалению, правительство по такому пути не пойдет. Как и по сталинскому.
– Я считаю, что необходимость перехода на мобилизационную экономику проглядывается, а вот способности это сделать вызывают большое сомнение. Да и осуществить серьезные меры без поддержки граждан нельзя, – говорит заведующий кафедрой экономической теории МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.
«СП»: – Власть готовит людей к новому формату экономической жизни?
– Пока я не вижу признаков, что наша власть хочет переходить к мерам мобилизационной экономики. До последнего времени власть к самому этому понятию относилась скорее отрицательно, нежели положительно.
Вообще, в мобилизационной экономике ничего хорошего нет. Она нужна только в экстремальной ситуации. Но всё указывает на то, что эти обстоятельства сейчас складываются. Однако пока у нас нет социальных и экономических механизмов мобилизации ресурсов, и с неба они не упадут.
«СП»: – Мобилизационная экономика предполагает полный отход от рыночных механизмов?
– Совершенно необязательно. Конечно, в своих крайних формах мобилизационная экономика может полностью подавить рынок. Но исторический опыт военных экономик ряда стран показывает, что можно сочетать мобилизационную экономику с рыночными отношениями. Конечно, рыночные механизмы будут потеснены. Можно вспомнить экономику США в период Второй мировой войны. Там вводился контроль за ценами, там применялись меры принудительного характера в сфере использования стратегических ресурсов. В то же время там продолжали действовать рыночные механизмы.
Пока я не считаю ситуацию у нас настолько тяжелой, что надо включать механизмы мобилизационной экономики. Но у меня есть опасения, что такая необходимость появится. И к этому надо быть готовым. Надо знать, что мы сможем сделать, и к каким результатам это приведет. Если начнется пожар, то поздно будет разбираться в способах тушения.
- Введенные против нас санкции - это только первый этап финансовой войны, - считает заведующий отделом философии политики Института философии РАН, доктор философских наук Владимир Шевченко. - Экономическая удавка будет действовать сильнее, чем все остальные угрозы и шантаж в адрес России.
Наша экономика очень открыта для внешнего влияния. Я недавно был в Китае и увидел, как много делают китайцы для защиты своего юаня. И поэтому США боятся КНР. У нас же действует совершенно устаревшая модель экономки. Финансовый поток внутри страны не замкнут, а направлен на США и Европу. Значит, в этой сфере мы беспомощные и не можем противостоять финансовой войне против России.
Поэтому нам надо принимать чрезвычайные меры, чтобы создать национальную независимую финансовую систему. Пока же мы вступили в ВТО, и у нас упал рост ВВП, закрылись некоторые заводы, страдает сельское хозяйство.
Не надо пугать людей словом «мобилизация». Это означает всего лишь закрытие «дыр», через которые уходят наши деньги за рубеж.
«СП»: – Готовы ли люди терпеть неудобства?
– Мобилизационная экономика означает поворот политики в сторону создания реального сектора, новую индустриализацию. Надо перекрыть канал вывоза капиталов из страны. Я не думаю, что от этого будет падение жизненного уровня.
На мой взгляд, недовольство может быть только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Они, в некотором смысле, форпосты западного образа жизни. Вся остальная Россия живет бедно, с большой долей натурализации личного хозяйства.
Источник: http://svpressa.ru/economy/article/102320/
Читайте также:
www.news-usa.ru
Гибридное сотрудничество. Как выйти из кризиса в отношениях России с ЕС
Новые отношения России с Евросоюзом могли бы строиться по принципу гибридного автомобиля, где роль двигателя внутреннего сгорания выполняет старая модель геополитического противостояния по линии Восток — Запад, то есть модель холодной войны, а роль нового — система глобальных, региональных и субрегиональных режимов, сохраняющих и расширяющих «общие пространства» между Россией и Европой.
Еще полгода назад в России, да и не только у нас модой сезона были предсказания скорой и неизбежной революции в мировой политике. Симптомов грядущих катаклизмов находили немало. Решение Великобритании выйти из Евросоюза и победа внесистемного кандидата на президентских выборах в США. Невиданный за многие десятилетия подъем правого популизма и антиглобализма на Западе и миграционная волна, готовая поглотить Европу. Беспомощность международных организаций перед лицом множащихся региональных конфликтов и практически повсеместноe падение доверия населения к основным институтам власти.
Складывалось впечатление, что еще немного, еще один-два серьезных сбоя — и вся система мировой политики, к которой мы привыкли за последние четверть века, развалится, как карточный домик. Больше всего мрачных, даже апокалиптических пророчеств адресовалось будущему Европейского союза. В 2014–2016 годах ЕС втянулся в «идеальный шторм», демонстрируя пугающую хрупкость и очевидное моральное старение многих своих несущих конструкций — политических, финансово-экономических, институциональных и даже идеологических. На фоне погружающейся в пучину хаоса Европы и видимой обреченности «европейского проекта» российские трудности выглядели куда менее драматично.
Ожидание (а у кого-то и нетерпеливое предвкушение) неизбежного краха существующего миропорядка не могло не влиять и на российскую внешнюю политику, и на дискуссии об этой политике. Какой смысл вкладывать силы, энергию, политический капитал в трудные переговоры с лидерами, дни которых все равно сочтены? Разумно ли следовать принятым когда-то правилам игры, коль скоро в самом ближайшем будущем эти правила все равно будут сданы в архив истории? Стоит ли идти на уступки и нелегкие компромиссы, если уже завтра мы проснемся в новом постзападном мире? Не лучше ли занять выжидательную позицию, наблюдая со стороны эпический закат «старой эпохи» конца XX — начала XXI века?
Революция отменяется
При всех своих очевидных внутренних проблемах и ограничителях Россия обладала, казалось бы, одним неоспоримым преимуществом перед Евросоюзом — более значительным ресурсом времени. Российские болезни, пусть даже и очень серьезные, имеют хронический, а часто вообще латентный характер, вызревая в течение многих лет, если не десятилетий. Европейские заболевания в прошлом году перешли из хронической в острую стадию, и консилиумы международных экспертов заговорили об опасности летального исхода. Во всяком случае, в Кремле появились основания полагать, что в любом вероятном сценарии противостояния с Европой Москва сумеет переиграть Брюссель — за счет большего временного ресурса.
Однако события 2017 года позволяют сделать вывод, что закат «старой эпохи» как минимум откладывается. По крайней мере в Европе. Евроскептики-популисты потерпели поражение на выборах в Нидерландах и во Франции; они не имеют серьезных шансов и на ближайших выборах в Германии. Брекзит вообще привел к подъему популярности «европейской идеи», и вряд ли кто-то из двадцати семи остающихся членов ЕС в скором будущем последует за Великобританией на выход из Союза. Миграционный кризис, хотя и не разрешен полностью, уже не выглядит столь драматическим, каким казался в 2016 и особенно в 2015 году. Общая европейская валюта не рухнула, и ни одна страна не была исключена из зоны евро.
Уж если говорить об обострении ситуации на Западе, то за последние полгода такое обострение наблюдалось не в Европе, а на противоположном берегу Атлантики. Судя по всему, Соединенные Штаты вступают в самый глубокий политический кризис со времен Уотергейта. Более того, речь идет также о социальном кризисе, выходящем далеко за пределы вашингтонского политического истеблишмента и затрагивающем все американское общество. Надежды на Дональда Трампа как на сильного президента, способного восстановить пошатнувшееся единство американского народа, пока не оправдываются, а поляризация политических и социальных групп лишь углубляется. Соответственно, снижаются возможности Белого дома проводить сколько-нибудь последовательную внешнюю политику, не говоря уже о реализации какой-то долгосрочной стратегии.
Кажется, что Соединенные Штаты и Европа в нынешнем году следуют прямо противоположными курсами: Евросоюз начинает, пусть медленно и неуверенно, на ощупь реагировать на свои системные проблемы, а в США эти проблемы пока только нарастают. Но с точки зрения мировой политики несовместимые, казалось бы, процессы в Европе и Северной Америке отражают, в сущности, одну и ту же особенность текущего момента: мир постмодернизма в целом демонстрирует больше устойчивости к переменам, больше сопротивляемости факторам дестабилизации и больше жизнестойкости, чем это можно было бы предположить еще полгода назад.
Да, конечно, при Трампе в НАТО обострились споры о справедливом распределении бремени оборонных расходов. Но майский саммит НАТО в Брюсселе не стал катастрофой, и хоронить Североатлантический альянс как минимум преждевременно. Да, проект Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства приказал долго жить, но это не привело и едва ли приведет к ожесточенным торговым войнам между Европой и Северной Америкой. Да, Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, но основная часть американского бизнеса, да и общества в целом продолжает следовать букве и духу этого соглашения.
Разумеется, кризис постмодернизма в международных отношениях никто не отменял, фундаментальные проблемы современной системы мировой политики в 2017 году никуда не делись, и эта система так или иначе все равно будет меняться. Но постмодернизм, как мы можем убедиться сегодня, обладает значительной силой инерции, и он еще долгое время будет вести оборонительные бои против наступающего неомодерна. А потому процесс перемен, скорее всего, примет форму длительной эволюции, а не быстрой революции, растянется на многие годы и десятилетия.
В этом процессе будут свои спады и подъемы, торможения и ускорения, но едва ли будущие историки, не говоря уже о современниках, смогут четко зафиксировать момент перехода мировой политики из одного качественного состояния в другое. А если уж говорить о прошедших восьми месяцах текущего года, то в эти месяцы доминировали скорее реставрационные, чем революционные тренды.
Ледниковый период
Что это значит для России? Прежде всего, не следует тешить себя иллюзиями, что наши проблемы в отношениях с Западом каким-то образом решатся за счет радикальных перемен на самом Западе и что главная задача Москвы — перетерпеть, переждать, пересидеть, пережить пусть крайне неприятный для нас, но непродолжительный период неблагоприятной мировой политической конъюнктуры. Гарантированного преимущества большего временного ресурса у Кремля нет. Российскому руководству придется рассчитывать свои силы для забега не на спринтерскую, а на марафонскую дистанцию, и далеко не факт, что оно подготовлено к этому забегу лучше, чем его оппоненты на Западе.
Потрясения последних двух-трех лет если не полностью сбили спесь с чванливых, самоуверенных и не слишком прозорливых евробюрократов и евростратегов, то, во всяком случае, заставили и тех и других спуститься с небес на землю. Во имя будущего «европейского проекта» в Брюсселе и европейских столицах идет настойчивый поиск новых траекторий развития Союза, обсуждаются варианты весьма принципиальных политических и экономических реформ, планы перестройки базовых европейских институтов. Можем ли мы, положа руку на сердце, заявить, что обсуждение будущего «российского проекта» ведется у нас с тем же накалом, широтой и интенсивностью?
Возможно, конечно, что в ЕС в скором времени евроскептики вновь пойдут в атаку, а в одной или двух европейских странах к власти придут пророссийски настроенные лидеры. Возможно, Трампу удастся одержать какую-то тактическую победу над американским deep state и минимизировать практическое применение нового пакета антироссийских санкций. Возможно, новый крупный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке на время отвлечет внимание Запада от противостояния с Россией. Возможно, политическая нестабильность в мире приведет к резкому скачку цен на нефть. Но строить свою стратегию, рассчитывая на такие подарки судьбы, все равно что планировать семейный бюджет в надежде на крупный выигрыш в лотерее.
Кроме того, становится все более очевидным, что наладить стратегическое взаимодействие с администрацией Трампа, оставив «распадающуюся Европу» на обочине истории, не получится. Пока все складывается с точностью до наоборот.
С Соединенными Штатами, по всей видимости, в обозримом будущем Россия может рассчитывать в лучшем случае на тактическое взаимодействие по узкому кругу вопросов — Сирия, Северная Корея, Арктика, ядерное нераспространение. Если повезет, то этот список будет дополнен проблемами стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и некоторыми другими. Но ни о каком совместном с американцами формировании нового миропорядка речь, конечно же, уже не идет. Устойчивость антироссийского консенсуса в Вашингтоне не подлежит сомнению; разрушить этот консенсус если и удастся, то очень и очень не скоро. То, что мы наблюдаем в российско-американских отношениях, не смена хорошей погоды на плохую, но фундаментальное изменение климата, своего рода новый ледниковый период.
А вот с Европой у России возможностей будет побольше. Чтобы справиться со своими многочисленными проблемами и недомоганиями, Евросоюзу так или иначе придется пересматривать многие из устоявшихся механизмов, процедур, приоритетов, а в какой-то части даже своих правил и принципов. Россия могла бы содействовать позитивной для себя трансформации ЕС, рассчитывая на постепенное расширение сфер сотрудничества — при условии достижения хотя бы минимального прогресса на центральном для российско-европейских отношений украинском направлении.
Старый двигатель
Если в 2017 году революция в мировой политике отменяется, то нужно искать практические решения в рамках существующей системы политических координат, отложив более грандиозные планы до лучших времен. Оптимальной и приемлемой для обеих сторон моделью взаимодействия между Россией и Европой, а в какой-то мере и с Западом в целом в сложившихся условиях представляется модель «гибридных отношений».
В современном политическом жаргоне понятие «гибридность» имеет негативный оттенок — мы говорим о «гибридных режимах» или о «гибридных войнах» как о явно малосимпатичных явлениях. Но ведь существует и такое понятие, как «гибридный автомобиль», использующий два или более источников энергии, чаще всего традиционный двигатель внутреннего сгорания и электрический аккумулятор. Гибридный автомобиль — более сложная конструкция, чем обычная машина, он дороже в производстве и эксплуатации. Тем не менее он обладает целым рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с обычной машиной.
В нашем случае роль традиционного двигателя внутреннего сгорания должна выполнять старая модель геополитического противостояния по линии Восток — Запад, то есть модель холодной войны. Эта модель, разумеется, далека от идеала, она дорога и во многом архаична. Но при всех своих недостатках модель холодной войны обеспечивала удовлетворительный уровень стабильности и предсказуемости — как в Европе, так и во всем мире.
Она включала в себя многочисленные каналы политического взаимодействия сторон, контакты между военными, меры по снижению рисков и соглашения по контролю над вооружениями. Более того, модель холодной войны предполагала наличие взаимного уважения и даже доверия. Почему бы и не вернуться к проверенной временем практике управления противостоянием, используя для этих целей такие механизмы, как Совет Россия — НАТО, ОБСЕ, Совет Европы или новые ad hoc форматы вроде часто предлагаемой Группы России и НАТО по управлению кризисами (Russia — NATO Crisis Management Group)?
А в некоторых сферах и возвращаться к старой модели отношений не придется, поскольку мы от нее никуда и не уходили. Это относится, например, к российско-американскому взаимодействию в ядерной сфере. Два оставшихся столпа такого взаимодействия — Договоры РСМД и СНВ-3 — при всем их позитивном значении полностью соответствуют логике управляемого противостояния, ни в чем не выходя за рамки парадигмы холодной войны. Соответственно, сохранение и укрепление этих соглашений не требует какого-то исторического политического прорыва, односторонних уступок или перехода к принципиально новому формату отношений между Москвой и Вашингтоном.
Однако ремонт и повторный запуск старого двигателя внутреннего сгорания — модели холодной войны — представляется хотя и необходимым, но недостаточным условием для стабилизации отношений между Россией и Западом. У этого двигателя существует как минимум четыре принципиальных конструктивных ограничения.
Во-первых, модель холодной войны по своей природе статична. Она настроена на сохранение статус-кво, не предполагая способности к эволюции. Реформировать такую модель чрезвычайно трудно — неслучайно первая холодная война завершилась не упорядоченной трансформацией модели управляемого противостояния, а обвальным и хаотическим разрушением этой модели в конце 80-х годов прошлого века.
Во-вторых, холодная война имела своей основой наличие двух вертикально организованных военно-политических блоков, разделяющих Европу на сферы влияния Советского Союза и США. Сегодня раздел Европы на жестко очерченные сферы влияния в принципе невозможен; сама идея «сфер влияния» считается безнадежно архаичной и неприемлемой — по крайней мере на Западе. Да и Россия сегодня не Советский Союз на пике своего могущества; геополитический паритет между Москвой и «совокупным Западом» возможен разве что за счет создания российско-китайского военно-политического союза, в котором России вряд ли досталась бы роль ведущего партнера.
В-третьих, модель холодной войны конструировалась советскими и американскими лидерами в целях противостояния наиболее опасным угрозам ХХ века. Хотя многие из этих угроз по-прежнему существуют, нынешнее столетие дополнило их список новыми вызовами, исходящими в том числе от негосударственных участников мировой политики. Модель холодной войны мало что способна предложить в плане противодействия новому поколению угроз международной безопасности.
В-четвертых, модель холодной войны была относительно эффективной в условиях, когда две противостоящие друг другу системы были почти полностью изолированы друг от друга и разъединены несовместимыми идеологиями. Сегодня такой изоляции России от Запада более не существует — ни в экономическом, ни в политическом, ни в гуманитарном пространстве. И воссоздать ее не удастся, несмотря ни на какие предпринимаемые с обеих сторон усилия. Нынешняя информационная война между Россией и Западом выглядит как карикатура на идеологическую борьбу коммунизма и либеральной демократии середины прошлого века.
Новый двигатель
Все эти существенные ограничения старого двигателя внутреннего сгорания диктуют необходимость дополнить его новым электрическим мотором. В роли подобного мотора могла бы выступить система глобальных, региональных и субрегиональных режимов, сохраняющих и расширяющих «общие пространства» между Россией и Европой, между Евразией и Евро-Атлантикой.
Вероятно, сохранять и развивать такие режимы первоначально будет легче в политически наименее чувствительных сферах — в образовании, науке, культуре. Но вполне возможным представляется распространение модели режимов и на сферы нетрадиционных вызовов безопасности — таких, как международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность, энергетическая безопасность и даже кибербезопасность. Модель режимов способна работать и на субрегиональном уровне — например, применительно к Балканам или к зоне Черного моря, она уже долгое время демонстрирует свою эффективность в Арктике.
Как представляется, в сложившихся условиях модель режимов могла бы эффективно дополнить старую модель холодной войны в отношениях между Россией и Западом. Если модель холодной войны по своей природе жесткая, требующая четкой кодификации достигнутых договоренностей, то модель режимов — гибкая, часто позволяющая обойтись без мучительных согласований технических деталей и избежать сложных и длительных ратификационных процедур.
Если модель холодной войны основана на наличии общепризнанной иерархии участников международных отношений, то модель режимов основана на горизонтальном взаимодействии заинтересованных сторон, в число которых могут войти не только большие и малые государства, но и негосударственные игроки — регионы и муниципалитеты, частные компании и институты гражданского общества, международные организации и трансграничные движения. Тем самым резко расширяется число потенциальных стейкхолдеров, заинтересованных в развитии сотрудничества, создается критическая масса для последующего прорыва.
Если модель холодной войны предполагает готовность сторон к «большим сделкам» типа Хельсинкского акта 1975 года и работает в основном по принципу от общего к частному, то модель режимов позволяет оперировать в условиях стратегической неопределенности, отсутствия «больших сделок» и работает больше от частного к общему. Ростки сотрудничества способны прорастать через асфальт конфронтации в любом месте, где этот асфальт дает хотя бы маленькую трещину.
Возникает вопрос: а как вообще можно совместить в едином гибридном формате две столь различные модели отношений между Россией и Западом? Принципиальная возможность такого совмещения вытекает из особенностей социальной организации России и Запада, которая сегодня радикально отлична от социальной организации середины прошлого века. В условиях высокого уровня социальной, профессиональной и культурной фрагментации современного общества, при наличии множественных групповых и индивидуальных идентичностей, с учетом крайне сложных механизмов взаимодействия вертикальных и горизонтальных, формальных и неформальных, базовых и ситуативных социальных связей каждая из моделей найдет свою целевую аудиторию, своих защитников, операторов и идеологов как в России, так и на Западе.
Легко предсказать, что соседство с конфронтационной логикой будет неизбежно ограничивать и деформировать логику сотрудничества. Две предлагаемые модели так или иначе будут сообщающимися сосудами, изолировать их друг от друга не представляется возможным. Но искусство внешней политики заключается, среди прочего, в умении играть шахматные партии на нескольких досках одновременно, вернее, играть одновременно и в шахматы, и в покер, и даже в экзотическую восточную игру го, а не только в привычные нам русские городки. Главное — разграничить сферы применения первой и второй модели, постепенно смещая баланс между ними от первой ко второй.
Полное вытеснение устаревшего двигателя внутреннего сгорания новым электрическим мотором произойдет, по всей видимости, еще не скоро. Скорее всего, не при жизни нынешнего поколения инженеров и конструкторов. Но гибридные автомобили — важный и, насколько можно судить, необходимый шаг в этом направлении. Работать над совершенствованием гибридных отношений между Россией и Западом представляется более разумным и перспективным делом, чем уповать на скорое наступление постзападного мира. Сто лет назад российские большевики тоже ожидали прихода со дня на день мировой пролетарской революции. Ну и что осталось от этих большевиков сегодня?
Впервые опубликовано на сайте Московского Центра Карнеги
russiancouncil.ru
Что нужно России для выхода из кризиса
К таким выводам пришли эксперты во время дискуссий на Московском экономическом форуме.
На этот раз МЭФ-2016 проходит в здании Московского госуниверситета. Главная тема – «25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?» Почему наше отставание от стран Запада по уровню жизни и технологическому развитию все увеличивается? И как можно переломить эту тенденцию? Эти и другие вопросы обсудили чиновники, бизнесмены и ученые-экономисты.
ИТОГИ ГАЙДАРОВСКИХ РЕФОРМ
На этот раз в Московском экономическом форуме принимают участие около 4 тысяч участников из 16 стран мира и 47 регионов страны. По словам экспертов в первый день работы форума, большинство наших нынешних проблем - это последствия той самой «шоковой терапии», которая была в 90-х. От плановой экономики мы слишком резко перешли к рыночной экономике. От дефицита товаров - к излишнему потреблению.
- Мы придавали большое значение процессу либерализации, - считает академик РАН, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов. - Решив, что трансформацию надо осуществлять в шоковом режиме и любой ценой, мы этот процесс проводили в конфликтных условиях (обнищание населения и так далее). У нас была удивительная ситуация в 90-х. Как если бы вы установили на улицах светофоры, а все участники движения – дальтоники.
Западный опыт, который хотели применить в России, де-факто не прижился. В основном из-за того, что не было переходного периода. Именно из-за этого в нашей стране установился странный экономический уклад: то ли плановая, то ли рыночная экономика. Но если у китайцев этот гибрид вышел успешным, у нас все ровно наоборот.
ДЕВАЛЬВАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ СТИМУЛОМ
- Мы часто решаем, как веслами махать, но не можем решить, в каком направлении плыть, - заявил Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ.
По мнению экспертов, России нужно наконец-то слезать с нефтяной иглы. И нынешняя ситуация в глобальной экономике дает хороший стимул для этого. По словам депутата Госдумы, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, девальвация рубля подарила отличный шанс нашим производителям. Но его получится использовать лишь при соблюдении нескольких условий.
- Девальвация является фактором роста только при дешевых кредитах, налоговых стимулах и росте спроса, - считает Оксана Дмитриева. - Наша экономика купается в деньгах, но они лежат мертвым грузом. Прибыль компаний за последний год выросла в полтора раза, а их депозиты выросли – на 70%. То есть деньги идут в банки, а не в инвестиции.
По словам депутата, нужно снизить ключевую ставку до 5 - 6%. Это автоматически приведет к тому, что ставки по кредитам упадут до 7 - 8%. А курс рубля зафиксировать на нынешнем уровне. Это даст стимул для развития компаний. Заемные деньги станут доступнее. Плюс у бизнеса появится предсказуемость относительно валютного курса.
- Как выйти из кризиса: надо отменить все налоги на любые инвестиции в реальный сектор экономики. В частности, на прибыль и на имущество, - считает Руслан Гринберг, сопредседатель МЭФ-2016 и научный руководитель Института экономики РАН.
СТИВ ДЖОБС НЕ СДЕЛАЛ БЫ В РОССИИ СВОЙ АЙФОН
По мнению иностранных участников форума, России не хватает более мягкой политики в отношении малого и среднего бизнеса. Ставка делается на крупные промышленные предприятия (в основном сырьевые). И это приводит к тому, что экономика сильно зависит от цен на нефть.
- В условиях глобализации нужно продавать другие виды товаров, не только нефть и газ, - заявил бывший председатель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. - Кроме того, надо развивать малый и средний бизнес. Но не надо слепо прислушиваться к рекомендациям глобальных институтов, в том числе МВФ. Нужно всегда учитывать специфику каждой страны.
По словам Стросс-Кана, взаимные экономические санкции должны быть отменены уже в этом году. Потому что они не выгодны ни России, ни западным странам.
- У России есть нефть, но нет прогресса, - заявил экс-министр финансов Польши Гжегож Колодко. - В постсоветское время у России так и не сформировалось грамотной экономической стратегии. В итоге, если 25 лет назад экономика России втрое превышала китайскую, то сейчас Поднебесная больше в шесть раз. Невозможно представить, чтобы в России появился свой Билл Гейтс. Да и Стив Джобс не сделал бы здесь свой айфон, он уехал бы в Штаты.
По мнению экспертов, сейчас наблюдается разрыв между огромным потенциалом, который есть у страны, и ситуацией в экономике.
- Результат нашей трехлетней работы состоит в том, что уже 60% населения нашей страны хотят перемен, чтобы страна двигалась к прогрессу, - заявил Константин Бабкин, сопредседатель МЭФ-2016 и президент промышленного союза «Новое Содружество». - Наша задача состоит в том, чтобы придать этому смутному желанию осмысленную форму, чтобы эти перемены осуществлялись разумно и быстро, и наша страна заняла то положение, которого она достойна.
www.kp.ru